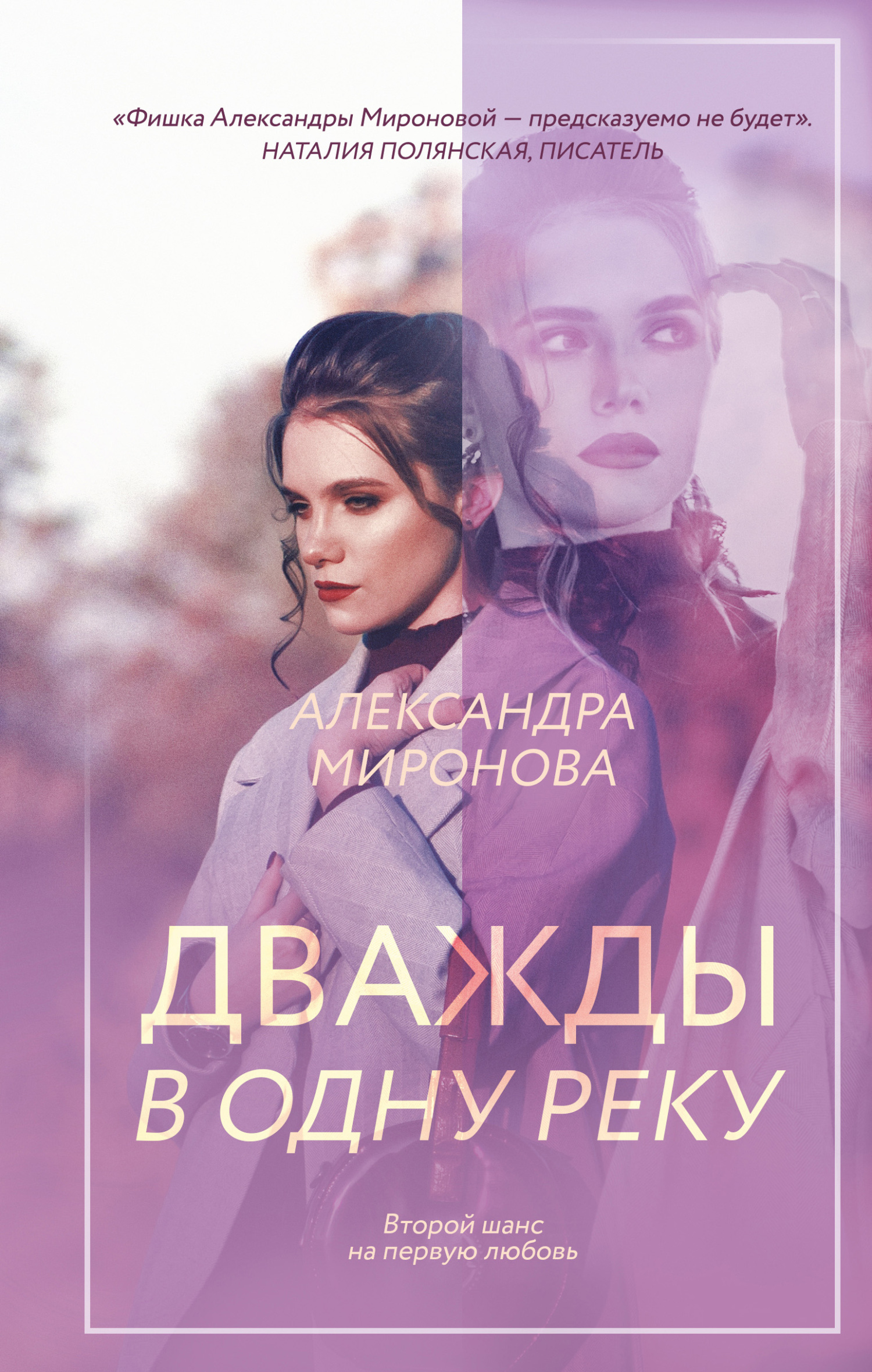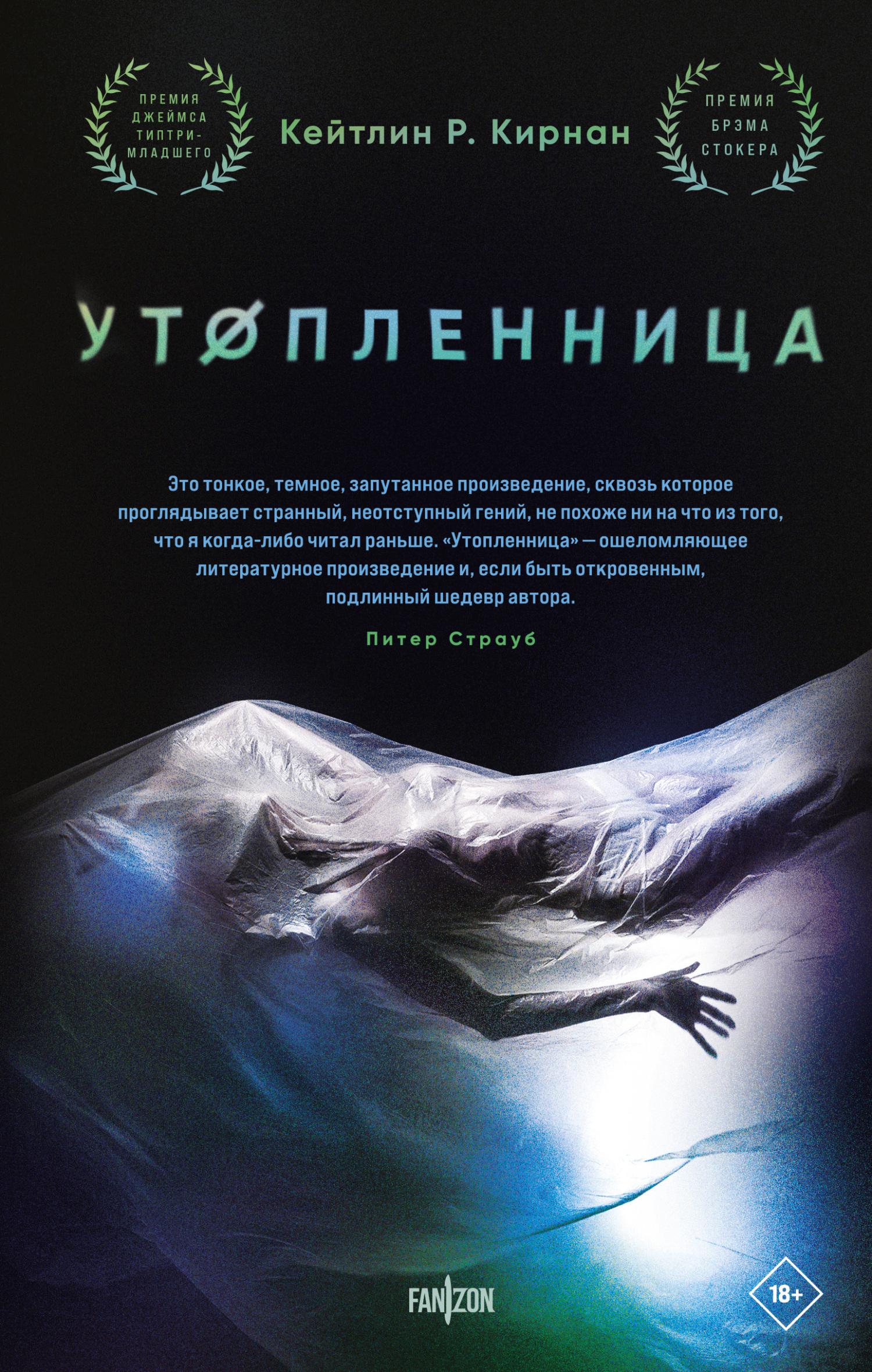Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сборник рассказов основоположника башкирской советской литературы М. Гафури (1880–1934). Для младшего школьного возраста. Художник Е. Филатов.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Мажит Гафури»:
![Рассказы [1984, худож. Е. Филатов] - Мажит Гафури](/uploads/posts/books/12254/12254.jpg)